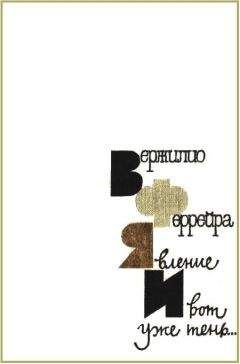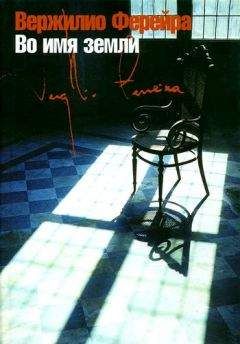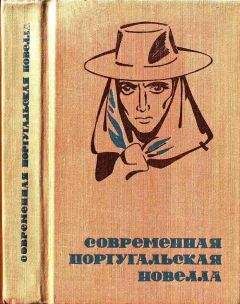Нильс Хаген - Охота на викинга [роман]
Увидев меня, Мархи захохотала. Старик включил Manu Chao и предложил выпить. Негры ушли за краской.
Через два дня мы развелись.
Я вернулся домой, написал заявление об увольнении и уехал в Россию руководить филиалом не самого крупного европейского банка — подальше от Европы, от мультикультурности и Manu Chao.
И вот звонок.
— Эй, — говорит Мархи, обеспокоенная моим долгим молчанием, — ты тут?
— Здесь. Так что тебе нужно?
— Дружочек, прости, что я…
Дальше она произносит фразу, которая звучит как «Меnеr qn par le bout du nez».[6] Я неплохо знаю французский и понимаю смысл сказанного, но почему-то перевожу в голове не на датский, а на русский. И у меня получается: «Я вила из тебя веревки».
— Прощаю, — говорю я. — Это все?
— У меня год назад родился ребенок, — шепчет Мархи. — Мальчик. Я назвала его… Нильс.
Бух! — сердце взмывает в голову, взрывается, горячо и мощно толкаясь в виски. Перед глазами все плывет.
Мальчик! Сын!
И тут же приходит трезвое понимание того, что рожденный год назад ребенок не может быть моим. Никак не может.
Зачем она мне это говорит? Может быть, хочет вернуться, все начать сначала? Перебесилась? Я готов ее принять. Принять с ребенком, с двумя, с десятью. Потому что люблю…
Люблю? А она?
— Дружочек… — говорит Мархи. — Прости, пожалуйста… Я уезжаю…
— Куда? — тупо спрашиваю я.
— В Китай. Jojo получила контракт на оформление торгового центра в Шанхае, крупнейшего в мире.
— Получила? — переспрашиваю я. — А от кого тогда ребенок?
Мархи смеется. Наваждение рассеивается. Она просто дурачит меня, опять дурачит! Меnеr qn par le bout du nez!
— Пошла ты к черту! — рычу я в трубку и… и продолжаю слушать ее смех.
— Прощай, скучный дядя Нильс, — мурлычет она сквозь смех. — Будь счастлив в свой тридцать третий день рождения…
Тридцать три года. Возраст Христа. «Земную жизнь пройдя до половины…» Во времена Данте
средняя продолжительности жизни мужчин была едва ли больше сорока лет — войны, болезни, антисанитария. Но почему-то считается, что Данте писал именно о возрасте Христа.
Кладу теплую трубку на столик, иду к холодильнику. Там на дверце стоит водка. Это очень по-русски держать водку не в баре, а в холодильнике и пить ледяную, не используя лед.
Надо выпить. Проклятая чертовка с Мартиники или Гваделупы, обладательница персиковой кожи, облитой горячим шоколадом, хозяйка вишневых глаз и хриплого смеха, словом, моя маленькая крошка Мархи, родившая ребенка невесть от кого, — она вывела меня из себя.
Колдунья. Ведьма. Она вновь пробудила во мне чувства. Это магия, колдовство. Именно за это таких, как она в Средние века и во времена Данте сжигали на кострах.
Но дойти до холодильника я не успеваю — гудит домофон. Пришел Дмитрий.
Мы идем в гостиную, он снимает очки в черной пластиковой оправе, выкладывает на стол планшет, телефон — все, естественно, Apple, — молескин и золотой карандашик.
— Будем работать, шеф, — сообщает он мне.
— Подожди, — говорю я ему. — Давай немного поговорим о русском языке. У меня есть ряд вопросов…
Дмитрий делает жест «рука-лицо», вздыхает.
— Шеф, не парься. Ты болтаешь на рашене лучше, чем восемьдесят процентов населения этой страны.
Я его не слушаю. В конце концов, я — начальник, а в патерналистской системе управления есть свои плюсы, которые четко характеризуются фразой: «Как я сказал, так и будет!» В России это работает, причем эффективно. Возможно, это вообще самая рабочая схема взаимоотношений между руководством и подчиненными.
— Что такое «вить веревки»? — спрашиваю я, глядя на Дмитрия в упор. Он не любит, когда на него вот так смотрят, теряется и становится похожим на большого усатого ребенка, провинившегося школьника.
Вот и сейчас Дмитрий растерян. Его короткие толстые пальцы, покрытые волосами, начинают ползать по столу, словно личинки, губы шевелятся, глаза перепрыгивают с одного предмета на другой.
— Ну ше-еф… — выпевает он наконец. — Ну заче-ем…
— Говори! — я приказываю ему.
Потому что я — начальник. Как скажу — так и будет.
Дмитрий вздыхает и начинает мямлить:
— В старину крестьяне делали веревки из пеньки…
— Из пенька?! — я удивляюсь, потому что никогда не слышал о таком способе делания веревок. Пенек в моем понимании — это то, что остается, когда срубают дерево. Как из пенька можно сделать веревку? Впрочем, русские все могут.
— Не из пенька, а из пеньки. — Дмитрий немного приободряется. — Это размочаленные волокна конопли…
— Каннабис? — я снова удивляюсь. — Ваши предки делали веревки из каннабиса?!
— Да что заладил: «пенька, каннабис»! — взрывается наконец Дмитрий. — Можно подумать, в вашей гребаной Дании веревки делали из чего-то другого… Да, брали коноплю, бросали на дорогу и ездили по ней на телегах. Потом волокно крутили, мяли, а когда становилось совсем мягким, из него вили веревки. Какие хочешь — хоть до соседнего села. Ну, и когда про человека говорят: «Из него можно вить веревки», это значит, что он такой же мягкий, как волокна пеньки… конопли…
— Каннабиса, — подсказываю я.
— Угу, каннабиса.
Мы умолкаем. Потом я тихо говорю:
— Интересно, а веревку до соседнего села можно курить?
Дмитрий с самым серьезным видом подтверждает:
— Можно. Причем всем селом и курили…
И мы начинаем давиться от хохота. Дмитрий смеется совершенно искренне, а мой смех — он немного сквозь слезы, ведь я только что узнал, что в представлении Мархи я мягкий, как волокна каннабиса, и из меня можно вить веревки.
Вить веревки…
Черт, я же хотел выпить!
Оставляю Дмитрия досмеиваться, иду к холодильнику, достаю водку, беру на кухне низкие
пузатые стаканы. Русскую водку надо пить из стаканов, так она вкуснее. И наливать сразу грамм семьдесят, чтобы был эффект.
Дмитрий, увидев в моих руках бутылку и посуду, удивленно крякает:
— Эт-то что такое, шеф? День же еще!
— То есть ты не будешь?
Дмитрий сопит, водит пальцем-личинкой по корешку молескина. Собственно, ответа я и не жду — мы же не первый день знакомы! — и разливаю водку.
— А закусь? — Дмитрий стряхивает с лица выражение сонного отличника и становится деловито суетлив. — Чего там у тебя есть?
Допускать его к холодильнику нельзя — разграбит. Но мне хочется выпить, а не возвращаться на кухню и делать бутерброды для этого Гаргантюа. И я только машу рукой — дескать, давай сам.
Дмитрий с неожиданной для его комплекции резвостью срывается с места и рысит к холодильнику. Я беру стакан, шумно выдыхаю — так меня учили, вот сам Дмитрий и учил — и проглатываю водку одним большим, тягучим глотком.
Ледяной огонь прокатывается по гортани, струится по пищеводу и разливается в желудке озером кипящей лавы. Я налил себе больше, чем обычно, — грамм сто двадцать, и у меня сразу немеет верхняя губа, а перед глазами словно повисает вуаль, типа той, что так любят невесты. Невестам вуаль нужна, чтобы спрятать от всех бесстыдно счастливые глаза, мне — чтобы не видеть Мархи, которая через три года снова заколдовала меня и теперь смотрит из каждого угла.
Из кухни, тяжело топая, приходит Дмитрий. В руках у него тарелка, на тарелке — стопка бутербродов с пармской ветчиной, зеленым сыром и помидорами. Я — фанат пармской ветчины и покупаю ее не в магазине, а в одном итальянском ресторане, который находится тут, рядом, на Смоленке. И сыр у меня тоже особый, называется Базирон Песто, его делают в Голландии, он зеленого цвета и имеет вкус соуса песто. А вот помидоры я предпочитаю местные, точнее, азербайджанские, большие и розовые. Словом, я люблю поесть вкусно.
А Дмитрий любит — много. Ему, по большому счету, все равно, пармская ветчина у него на бутерброде или соевая колбаса эконом-класса. И в сырах он разбирается так же, как в ветчине, то есть никак. Так что мои деликатесы сейчас будут варварски уничтожены безо всякого гурманства. Ну да и черт с ними. Мне все равно.
— На здоровье, — говорю я жующему Дмитрию. — Ты хотел поработать?
Но он видит мой опустевший стакан, видит, сколько убыло в бутылке, и перестает жевать.
— Стоп-стоп-стоп… — говорит Дмитрий и не глядя ставит тарелку на край стола. — Шеф, что произошло?
2
— Что ревешь, дуреха?
Рита не ответила, только беспомощно помотала головой. Слезы бежали по щекам черными дорожками поплывшей туши, и остановить их не было никаких сил.
Даже сейчас, когда все уже окончательно решено, ненавистный город детства, малая родина, не хотел отпускать, сопротивлялся. А ведь уже казалось, вырвалась из родного захолустья, добралась до Новосибирска, и от столицы, от новой жизни теперь отделяли только рельсы, шпалы и два дня вагонной качки…